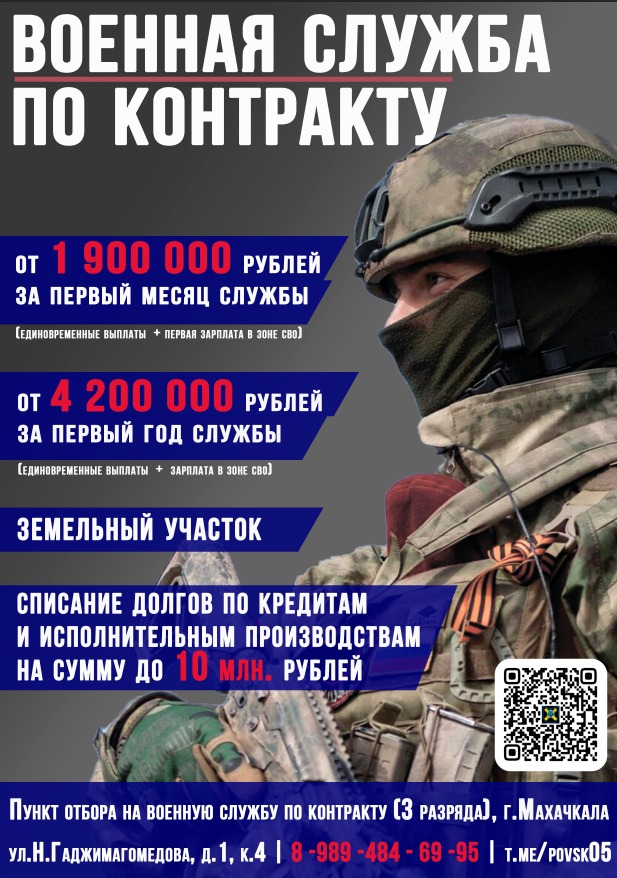Эбелцан – праздник начала весны, нового сельскохозяйственного года по народному календарю, является одним из самых древних, устойчивых, традиционных праздников табасаранцев. Отмечают в день весеннего равноденствия, в период «мулух» и по традиционному аграрному календарю.
Существует даже особая поговорка-примета «Дакьракьи таркь гъапIган, мулухдин садпи йигъан Эбелцен машквар улубкьура». («Когда в период дакьракь раздастся треск, тот день и считается первым днем периода «мулух», в который празднуют Эбелцан»). Время наступления праздника весны в каждом селении определяли по естественным (дерево, вершина горы или скаты и т.д.) или искусственным (пирамиды из камней) ориентирам. Так, наступление весны жители с. Татиль определяли по тому, когда солнце становилось в одну параллель с крепостью в местности «Жжухна» В с. Вечрик его определяли по восходу солнца в местности «Виччрихъ» и заходу в местности «ЦIийи йишвартIил». В с. Ляхла на юго-западной окраине села, в местности «Эцегъярикк» имелась груда камней, у которых росло ореховое дерево. Момент совмещения солнца на закате с камнем и считался временем наступления весны. В с.Арчуг этот момент определяли по совмещению солнца на закате с камнем «ЦIижандин лишан» в местности «Рихарин кIул». В с. Хоредж у годекана находился каменный столб – «Ригъдин гъван» («Солнечный камень»), высотой до 1,5 м с утолщенным навершием, на поверхности которого имелась специальная прорезь. В 1 км к северу от села на склоне горы «Валак», в местности «ХакIеле» находились три пирамиды из камней. Эта местность табуирована: здесь нельзя копать, пасти скот, производить любые другие работы, что вполне объяснимо – хозяйственная деятельность человека могла каким-нибудь образом нарушить или разрушить ориентиры. Кроме того, сакральность местности можно также объяснить и тем, что на заре первые лучи восходящего солнца падали именно сюда. Для определения наступления весны у столба становился один из аксакалов и на закате, глядя в прорезь, улавливал момент, когда «Солнечный камень», средняя пирамида и солнце оказывались одной плоскости. Интересно отметить, что аналогичные ориентиры в виде каменных конусов, столбов «солнечные гнезда» и т.д. применялись лакцами с. Балхар, хевсурами, тушинами и др.
Подготовка к празднику Эбелцан начиналась задолго до дня весеннего равноденствия. Примерно за месяц до него дети начинали играть в игру «муртйир йивуб» («яйца бить»). Участники игры приносили с собой по несколько сырых яиц и ударяли их острыми концами об яйца соперников. Если они разбивались, победивший забирал их себе в качестве приза. То, что в данном и других обрядах фигурирует яйцо, не случайно, а имеет свой смысл. Разнообразные игровые обычаи с яйцами имели аграрный оттенок: яйцо – символ новой зарождающейся жизни, и оно должно было вызвать прилив растительных сил.
Большое место в празднике занимал огонь и обрядовые действия с ним. По мнению И. Н. Гроздовой, костры в народных обычаях имели двоякое значение: по более старым представлениям, им приписывали симпатическую связь с солнцем, с течением времени им стали придавать главным образом очистительное значение. Вечером 21 марта мужчины села устраивали на кладбище небольшие поминальные торжества. Представитель каждого дома приносил с собой пироги «афрар» с начинкой из съедобных трав. Все пироги складывали в одно место, разрезали их на равные части и раздавали присутствующим. Руководил процедурой самый старший по возрасту и уважаемый человек из числа присутствующих.
Здесь же назначали пастухов, надсмотрщиков полей, договаривались с ними об оплате. Вновь назначенные пастухи также приносили с собой орехи, продукты и раздавали участникам обряда. По дороге их встречали дети и женщины, которым мужчины отдавали свое угощение. Выясняя генезис указанных обрядов, и в частности, устройства ритуальной трапезы на кладбище (культ предков), раздачи обрядовых пирогов, Б.М. Алимова считает, что подобные действия служили цели плодородия и изобилия. По возвращении с кладбища с наступлением темноты разжигались костры на возвышенностях вокруг села, на годекане, на току, на перекрестках дорог. В с. Хурсатиль 21 марта перед заходом солнца у мечети устанавливали зеленое дерево, которое со всех сторон обкладывали сухими кустами («зюрди букIар»). По команде муллы один из уважаемых людей села поджигал их. В этот же момент раздавали саадака, а дети били яйца. Если дерево, догорев, падало в сторону юга, считали, что год будет урожайным. Топливо для костров заготавливали заблаговременно. Им были хворост, сено, солома. Хозяева в это время были начеку, т. к. подростки для костра могли стащить поленницу заготовленных дров или плетень. В наше время для этой цели используются старые автомобильные покрышки.
Интересно отметить, что во время языческого праздника Эбелцан во многих селах (Кандик, Цудук, Заан и Асккан Ярак, Межгюль, Уртиль и др.) разрешалось использовать опавший хворост из-под священных деревьев, тогда как в обычные дни на это существовали строгое табу (в некоторых селах разрешали топить таким хворостом печи на общественной мельнице или в примечетской школе).
Подростки каждого квартала села вступали в своеобразное соревнование, стараясь разжечь свои костры ярче. Другой особой доблестью считалось украсть горящее полено из чужого костра, причем в с. Межгюль это надо было сделать обязательно. В это же время молодежь играла в игру «уф цIай» («дунь на огонь»). Она заключалась в следующем: большую иглу втыкали в потолочную балку с вдетой в нее ниткой. Второй конец нитки вдевали в другую иголку, кончик которой втыкали в горящий уголек. Он должен был находиться на уровне лица человека. Юноши и девушки дули на уголек так, чтобы он коснулся лица соперников, причем от уголька нельзя было отклоняться. Тот, чьего лица уголек касался, считался проигравшим. Он должен был угостить остальных игроков. Возможно, что смысл игры заключался в свойстве горящего уголька отгонять злых духов.
Одним из развлечений молодежи в этот вечер было перепрыгивание через костер с произношением различных пожеланий.
На праздник готовили обрядовую пищу из 7 блюд, призванную магически воздействовать на урожай – варево «Кьуяр», или «дангу», блины «Гъванжрар», пироги с различными начинками – «афрар», «цIикбар». «чIиргъни галар», вареные курица и яйца, халву «аварши», орехи и т.д. Центральное место в праздничной пище занимало блюдо «кьуяр» (у южных табасаранцев) или «дангу» (у северных табасаранцев) из зерновых и бобовых культур, сушеных бараньих или говяжьих ног, языков, хребтовой части. В с. Межгюль это блюдо называлось просто «гъовхьу дяхин» («вареное зерно»). Аналогичное блюдо «мугь» готовили аварцы во время праздника «первой борозды».
Комментируя схожее русское новогоднее ритуальное блюдо «кутью». В.И. Мичеров отмечает, что оно является земледельческой ритуальной едой и характерно примитивным способам приготовления пищи. К таким же древним видам пищи относятся блины «Гъванжрар», название которых, на наш взгляд, является усеченным от словосочетания «Гъвандиин гъуржрар» («на камнях испекаемые»).
«Блины – древнейшая форма печеной мучной еды. Когда еще не умели печь хлеб, муку смешивали с водой, делали жидкое тесто и порциями выплескивали на горячие камни. Таким образом, блины по происхождению – не магическая еда, как кутья, а древнее, архаичное блюдо, средство насыщения, получившее обрядовое применение», – отмечает В.Я. Пропп. Приготовление блинов – символов солнца и коллективное поедание их отмечало победу дня над ночью. Во время праздника пекли также различные виды хлеба с изображением солярных знаков. Вероятно, в прошлом обязательно выпекали и фигурные обрядовые хлебы. Но в наше время они не встречаются. Видимо, это связано связано с влиянием ислама, считающего греховным изображать из теста зверей, птиц, небесные тела и т.д.
Таким образом, все разнообразие хлебной пищи, которое характеризовало традиционную систему питания, можно было снести к обязательному непременному набору: зерно, каша, блины и печеный хлеб (пресный и кислый). Он же входит и в состав символов.
На фото: 1. Подготовка праздничных блюд. 2. Обрядовое блюдо «дангу».
Продолжение в следующем номере